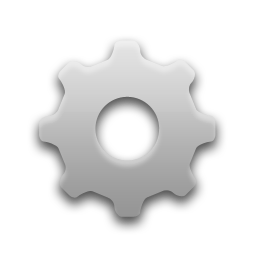Правозащитник Максим Буткевич: «Бойцы добровольческих батальонов не считают свои действия преступлением»


Военные преступления украинских войск в зоне АТО и радикализация настроений в нашем обществе, как волонтеры развращают государство и как эффективно противостоять российской пропаганде – об этом и не только во второй части интервью правозащитника, журналиста и активиста Максима Буткевича. Начало этого интервью – здесь.
- Максим, ты как правозащитник считаешь, что на самом деле украинские войска в зоне АТО не совершают военных преступлений?
- Конечно, у нас есть информация о том, что они там совершали потенциально уголовно наказуемые деяния, и часть из них может быть квалифицированы как военные преступления. Да, эта информация в правозащитные организации приходит. Как в отношении пророссийской стороны, так и в отношении украинской. Диспропорция, правда, большая: информации о преступлениях со стороны «ЛНР» и «ДНР» очень много и ей давно уже никто не удивляется. Но я бы говорил не только о количестве преступлений, а и о том, что на Донбассе возникла система, санкционированная высшим руководством этих двух образований, поощряющая такие действия в отношении и мирных жителей, и украинских солдат. С украинской же стороны речь идет об исключениях. И для того, чтобы они оставались эксцессами, исключениями, нужно с особой внимательностью к ним относиться и расследовать.
- Примеры есть?
- Да. Был целый рад сообщений о мародерстве и применении пыток к задержанным со стороны ряда добровольческих батальонов. По этой информации «Международная Амнистия» сделала два заявления, одно из которых касалось непосредственно батальона «Айдар», и говорили они о том, что дело не только в батальоне «Айдар» как таковом, а в том, что такие инциденты в принципе должны адекватно расследоваться.

- Да, доклады были. Но базируются они на сообщениях местных жителей. Которые, как известно, верят в распятых детей. «Амнистия» проверяет эти свидетельства?
- Я когда-то имел отношения к структурам «Амнистии» в Украине и к подготовке ряда отчетов по Украине. У этой организации очень жесткая методология проверки информации, так что я бы (с какой-то поправкой на ветер) доверял отчетам «Международной амнистии». Для меня это фактически юридический документ. Например, ее отчеты можно использовать по целому ряду случаев как свидетельства в суде. Кроме того, «Амнистия» – не единственный источник, целый ряд правозащитных организаций получал информацию напрямую от пострадавших.
Другое дело, что часто бойцы добровольческих батальонов не считают свои действия преступлением. Допустим, мародерство. Им для продолжения ведения войны нужен транспорт. И они приходят к человеку, который был известен своими пророссийским симпатиями, и забирают у него транспорт. Ну, какое же это мародерство, с их точки зрения? Но понятно также, что с юридической точки зрения, это преступление. Куда хуже, когда речь идет о пытках, а речь о них идет. И эти эксцессы в условиях военных действий, особенно в условиях того «дикого поля», которое сейчас существует в целом ряде районов, неизбежны. Но от этого лучше эти действия не становятся.
- Поговорим об упоротых националистах. Возьмем недавние события – поджог кинотеатра «Жовтень» во время показа фильма на ЛГБТ-тематику, срыв представителями «Правого сектора» аналогичного показа в кинотеатре «Кинопанорама». Видишь ли ты, что мы как общество правеем?
- Я бы сказал «да», ведь эти эксцессы являются одним из индикаторов процесса. Крайне правые идеи стали более приемлемы. Очень часто это происходит под лозунгом «у нас война и союзников не выбирают», а некоторым вообще кажется, что «ребята дело говорят». В их пользу сработало то, что, кроме крайне правых маргинальных групп, никто всерьез не рассматривал возможность вооруженного конфликта между Украиной и Россией в ближайшем будущем. И если об этом шла речь, то это вызывало недоуменные ухмылки. Конечно, все допускали возможность экономического давления, санкций, здесь молочку запретили, там конфеты…

- «А если не будут брать – отключим газ».
- Да, или ожидали газовые войны. Но то, что происходит сейчас, никому не могло присниться в самом страшном сне. И вдруг оказалось, что эти маргиналы были правы. Конечно, правы не потому, что обладали какими-то особенными прогностическими способностями, а потому, что твердолобо следовали своей идеологии, независимо от внешних влияний. Но их правота сделала отношение к ним более терпимым. К тому же их мотивированность в нынешнем конфликте крайне высока и проявилась в формировании и участии в добровольческих батальонах. Тем самым эти люди получили дополнительное признание – как патриоты, защитники, герои.
- То есть воюют-таки «правосеки».
- Воюют самые разные люди. Но батальон «Азов», например, находится под контролем людей, которые раньше были крайне правыми и принадлежали к группе, которая квалифицировалась исследователями как неонацистская.
- Ты говоришь о Билецком?
- В частности, но не только. И об Игоре Мосейчуке, и о прочих. Наиболее четко отношение части общества к этим группам сформулировал советник Авакова Антон Геращенко, который в интервью «Фокусу» сказал: « Если у бойца на спине вытатуирована свастика, чьи права это нарушает?»
- А он точно это сказал?
- Да. Все думают: они же все равно воюют за нас, какая разница, какой они идеологии? Хоть коммунисты, хоть анархисты, хоть либералы, хоть нацисты. Эта тема, кстати, часто всплывает в правозащитном сообществе, и некоторые участники дискуссий размышляют, мол, легко нам здесь, в тылу, рассуждать о тех, кто на фронте. Но это классический аргумент ad hominem, когда мы переносим нашу реакцию с человека, который занимает уважаемое обществом место, выполняет уважаемую функцию, на систему ценностей и взгляды, которых он придерживается. Мол, раз он уважаем за то, что воюет, значит то, во что он верит, тоже должно быть уважаемо. Таким образом, мы приходим к очень нехорошим вещам. Сейчас мы видим процесс политической демаргинализации крайне правых идей. Хотя крайне правые в составе нынешней Рады пока занимают крайне малое место.
- Три человека?
- Если очень расширять понятие крайне правой идеологии, то можно насчитать максимум 13. И то, понятно, что большинство из них были избраны вовсе не «за правую идею», голоса отдавались, исходя из других соображений.

- В прошлом созыве была «Свобода», так что, по сути, прошлый парламент был правее нынешнего.
- Да, так что прошлый был покруче – ровно в три раза, кстати. Но то, что Билецкий был избран при пособничестве широкого круга либерально-демократической коалиции и формальном участии Сергея Лещенко, например, - это тоже показатель процесса демаргинализации правых.
- А Ляшко ты учитываешь?
- Ну, вообще-то Ляшко пытается быть местным Жириновским, то есть клоуном и популистом. Но он прошел в парламент при широкой поддержке крайне правых, его союзниками была часть представителей того же «Патриота Украины» и части «Социал-национальной ассамблеи» еще в период президентской кампании. Тогда же появились сумасшедшие видео с батальоном Ляшко, которого никогда не существовало в природе. И не зря Игорь Мосейчук (такая же одиозная личность, как и Билецкий) прошел по его списку.
Но крайнюю оторопь в правозащитных кругах вызывает – если не брать убийство Саши Белого – назначение нового начальника Киевской областной милиции, Вадима Трояна, заместителя Билецкого из «Патриота Украины». Он – один из лидеров этой группировки, человек, который никогда не скрывал своих соответствующих нацистских взглядов. Правда, он и не выступал публично, и соответствующих прямых его заявлений нет. Но на предвыборном сайте «Народного фронта» четко указано, что он активист организации – как плюсик. То есть то, что раньше считалось принадлежностью к неонацистской группировке, сейчас считается активизмом в рамках общественной организации с хорошим названием. К сожалению, пока идет война, крен вправо неизбежен. Но это не значит, что с этим не нужно ничего делать.
Например, мы многого ожидаем от противоречивого, но плодотворного сотрудничества правозащитных организаций и нынешнего руководства МВД. В частности, результатом этого сотрудничества стала принятая стратегия реформирования Министерства внутренних дел, фактически написанная правозащитниками – ХПГ и многими другими. Но в целом, это, конечно прорыв.
- Заработает ли она?
- Мы надеемся, что да, но для этого мало надеяться, надо что-то делать.
- Вернемся к медийной стороне ситуации. Почему мы оказались совершенно не готовы к мощи российской пропагандистской машины? Почему мы вообще никогда особенно не следили за тем, что показывают российские медиа?
- Ну, в некоторых случаях, особенно впечатляющих, реакция какая-то была. Например, в свое время, годы назад, все обратили внимание на знаменитый российский новогодний репортаж во время очередной газовой войны (совершенно неформатный, то ли 7-, то ли 12-минутный), в котором Украину называли Малороссией и сообщали, что малороссы замерзают в квартирах. Так что реакция была, но точечная. А в остальном все смотрели, как деградируют российские медиа, и немножко злорадно хихикали над этим.
Но в целом, конечно, мы оказались не готовым потому же, почему вся остальная страна оказалась не готова ко всему остальному, ведь сценарий войны России и Украины никому не казался возможным, кроме как самым упоротым этническим националистам. И мы пропустили момент, требовавший немедленной реакции, в то время, как с той стороны те, кому надо, были готовы. С нашей же стороны никто не был готов – от армии, которой фактически не существовало, до самого населения. Это казалось невероятным. Ну что ж, у нас наступил сезон неприятных чудес.
- Корректно ли называть то, что происходит сейчас, именно войной Украины и России?
- Да. Я считаю, что это война Украины и России. Возможно, есть и другие элементы в этом противостоянии. Но поскольку есть прямые боестолкновения с российскими подразделениями, регулярными или добровольческими, украинских, регулярных или добровольческих, - это именно война двух стран. Совершенно очевидно, что госструктуры России оказывают и прямую, и опосредованную поддержку военному конфликту с участием своих граждан или своих подразделений, и как-то иначе это назвать сложно. Да и в информационном смысле – если это не война, то что? Идет война со всеми ее элементами – дезинформацией, психологическим давлением на противника, вербовкой.

- Ты какое-то время посидел в камере в Питере, пикетируя саммит G8. Как я понимаю, у тебя довольно обширные связи с правозащитными организациями в России. Как они относятся ко всему происходящему?
- Я могу только посочувствовать российским коллегам. Они работают в куда более тяжелых условиях, чем мы. Война не идет на территории России, но они работают в совершенно враждебном окружении – информационном, психологическом, юридическом, а иногда речь идет даже о физическом выживании. Они вынуждены часто отстаивать существование своих организаций – прецеденты закрытия через суд так называемых «иностранных агентов» уже есть. Они вынуждены тратить ресурсы не только на то, чтобы заниматься проблемами прав человека в России, но и просто на то, чтобы поддержать свое существование.
- А что с Крымом? «Крымнаш» для них?
- У большинства тех, с кем мы работали из российского правозащитного сообщества (я бы даже сказал, на удивление, хотя боюсь этим удивлением оскорбить людей), оказалась совершенно адекватная реакция. Это люди, которые сейчас признают фактическую сторону дела, то есть думают над тем, как защитить права людей, живущих на данный момент в Крыму. И, тем не менее, они подчеркивают, что не согласны с аннексией Крыма и «вхождением» его в состав РФ.
Отношение к ситуации вокруг Крыма стало интересным «кислотным» тестом в российской правозащитной среде. Есть, конечно, ряд российских «правозащитников», которые бросились с триколором наперевес кричать «Крымнаш». Но с этими людьми мы не работали и раньше, потому что они имели неоднозначную славу внутри сообщества. И со временем стало понятно, что они просто играют роль «правозащитных организаций», являясь карманными структурами Кремля.
- Например?
- Например, известный «правозащитник» Александр Брод, рьяный «антифашист», который ездил наблюдателем на так называемые выборы в так называемую «ДНР». В целом, водораздел внутри российских правозащитников существовал и до того - по отношению к тому, что происходило в России. А когда речь зашла об Украине, он сохранился: те, кто во внутренних российских событиях не шли на компромиссы, и здесь не стали. А те, кто тогда считал, что с властью надо договариваться и можно немножко поступиться принципами – те и здесь сделали это легко. Только теперь это стало более очевидно, весомо и грубо.
Так что наши российские коллеги работают в более тяжелых условиях, чем мы. А то, что они иногда сообщают информацию, неприятную для нашей аудитории (как и украинские правозащитники), - так иначе они не правозащитники.
- Но такой бурной реакции на заявления украинских правозащитников нет. Наверное, срабатывает сам факт того, что о наших проблемах говорят россияне – как в случае с Яневским и Локшиной?
- Вообще-то Human Rights Watch – это американская организация. Я говорил с Локшиной после инцидента с Яневским, и она тоже высказала предположение, что если бы не она и не из Москвы комментировала эту ситуацию, а комментировал другой представитель организации и из Нью-Йорка, то реакция была бы другая. Но у правозащитников всегда неприятная роль - и у российских, и у украинских правозащитников.
Такая же неприятная роль должна быть и у украинской журналистики. Сейчас мы не можем создать свою пропагандистскую машину. Не будем брать профессиональный и этический аспект попытки ее создания – не можем просто технически. То, что я видел в Абхазии во время грузино-российской войны, - «детский сад» по сравнению с тем, что мы увидели на российских каналах в этом году. Они вышли на совершенно новый, практически недосягаемый уровень.
Мы это воспроизвести не сможем, и я считаю, что и не должны. Но наше преимущество может быть в качестве журналистики. Если будет видно, что украинские СМИ не боятся освещать даже неприятные для себя темы, – значит, мы выиграем. В Абхазии, когда мы говорили с чиновниками самопровозглашенной республики и местными жителями, они все не могли поверить, что мы можем давать что-то, кроме пропагандистских материалов, в эфир. Они спрашивали: «Как это, вы же украинское телевиденье?» Да. «Значит, вы не можете говорить что-то другое, чем ваш президент». Можем. «Почему?». Для них это было искренне непонятно. А для нас было непонятно, почему они об этом спрашивают. Я думаю, что наше преимущество в данном случае в том, что мы можем давать разнообразную информацию.
- Надо признать, что к качеству работы украинских журналистов было много вопросов и до Майдана. Какие основания ожидать сейчас, что наша пресса способна справится с такими трудностями, которые возникают перед нами впервые?
- Кстати, это может быть еще одним фактором, из-за которого мы проморгали нынешнюю ситуацию. Если украинской журналистикой и решались какие-то вопросы, кроме коммерческих, в массе своей, - это было обслуживание интересов внутренних финансово-политических групп. Которые контролировали все - от редакционной политики СМИ и до размещаемой джинсы. Все были слишком заняты решением этих вопросов, нам некогда было думать о каких-то других факторах.
Почему украинская журналистика должна появиться сейчас? Потому, что сейчас все приходится начинать чуть ли ни с нуля, выстраивать армию, волонтерскую систему помощи переселенцам, и многое другое.

- Да, и пока это усилия общества, а не государства. У тебя есть ощущение, что государство вообще работает? Скажем, в твоей сфере. Закон о переселенцах, например, о котором все говорят, был подписан президентом с каким-то невероятным опозданием, как я понимаю?
- В нашей сфере с натяжкой наконец все начинает работать. Закон о переселенцах еще надо будет дорабатывать, но он куда лучше, чем тот предыдущий вариант, который раньше был проголосован Радой и потом заветирован. Сейчас все гражданские и волонтерские инициативы, которые занимаются переселенцами, с облегчением выдохнули, потому что Порошенко подписал его наконец. Причем сроки, отведенные Конституцией президенту на подписание, уже давно прошли. Это почему-то не стало новостью в СМИ. Ну, подумаешь, президент нарушил Конституцию, ну и хрен с ним.
Мы знаем, что за этот закон шла жесткая подковерная борьба, потому что ряд политиков и министерств хотели, чтобы президент наложил на него вето. Учитывая, что сейчас конец ноября, а проблема с переселенцами возникла в марте, и понимая, что старый парламент уже не с нами, а новый будет заниматься дележкой портфелей и непонятно когда у новой Рады дошли бы руки до этого закона – если бы его заветировал президент, переселенцев оставили бы без рамочного закона на всю зиму. И непонятно, как они бы эту зиму пережили. Так что на фоне реальных повседневных проблем сотен тысяч людей, для нас эта возня - полный бред.
Можно сказать, что государство заработало и в плохом смысле тоже. Если в марте, апреле и даже в мае часть чиновников ощущала шаткость своего положения из-за давления снизу, то сейчас чувствуется, что все возвращается к своему обычному режиму работы. И волонтерские инициативы и госчиновники снова живут в разных мирах: у чиновников снова огромная инерция, основной мотивирующий фактор для них – показать, как все хорошо.
- Есть уже случаи, когда они отчитываются, представляя в качестве своих успехов работу волонтеров?
- Да, это так, и в ряде регионов. Волонтерское движение имеет свои теневые стороны – например, оно развращает государство. Намного легче, чем работать, взять трубку, позвонить волонтерам и спросить: «Ну, скольких сегодня поселили и накормили?» – и внести цифры в собственный отчет.
- Кто сейчас является волонтерами? Кто эти люди?
- Большинство из них совершенно новые и разные люди. По большей части, это люди с образованием – я имею в виду не корочку, а личную разностороннюю образованность. До этого года большинство из них не принимало никакого системного участия в общественной деятельности, но то, чем они занимаются сейчас, совершенно не имеет никакого отношения к тому, чем занимались раньше. Впрочем, если есть возможность проявить свое профессиональные навыки, то стараются делать именно это. Я боюсь быть слишком комплиментарным, но вся ситуация последнего года вдруг обнаружила то, что у нас огромное количество талантов, людей, которые быстро обучаемы, легко перенимают опыт (друг у друга преимущественно), гибки и, не владея формальными навыками, на практике могут сделать очень многое. Понятно, что их работа часто выстраивается методом проб и ошибок, и ошибки иногда очень дорого стоят. Но в общем и целом то, что сейчас называют волонтерским движением, - то, в чем мы участвуем и с чем сталкиваемся, – оказалось куда гибче и изобретательней, чем любые формальные структуры, даже негосударственные. Вообще, ни в одной стране мира, где я когда-либо бывал как активист или журналист, я никогда ничего подобного не видел. И это повод для оптимизма. Не для пустой «гордости», конечно: я не думаю, что даже здесь уместно говорить что-то вроде «я гордий тим, що я українець», это не имеет никакого смысла, - но это, безусловно, круто. Другое дело, что у волонтерского движения есть жесткие рамки того, что оно может сделать – и сейчас это становится все явственнее. Начиная от ограниченности ресурсов и заканчивая системными проблемами – в конце концов, оно реактивно, а не проактивно.
- Но ты же анархист по убеждениям и должен радоваться, что государство нам не нужно, а общество самоорганизовывается.
- По большому счету мы именно это и видим. Конечно, анархизм - это общая теория, способ восприятия социума и себя в нем. Никто из нас на деле не проверял, можно ли так жить. Но именно то, что в Украине в сфере самоорганизации и взаимопомощи произошел такой качественный скачок за такой короткий период времени, и вообще такая форма сотрудничества людей стала не только возможна, но и широко распространена, - для меня это большой сюрприз.
Дуся
Фото: Максим Лисовой